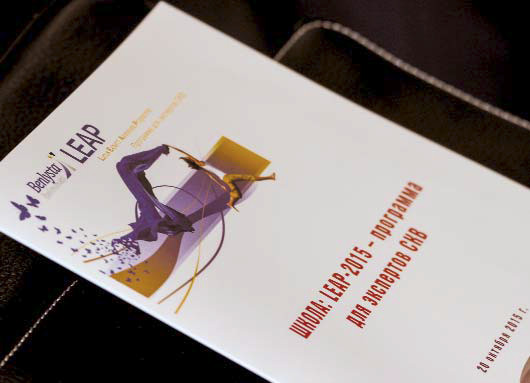 – Евгений Львович, выступая на открытии мероприятия, вы сказали, что школа системной красной волчанки особенно важна, поскольку это одно из самых тяжелых ревматических заболеваний. Какой конкретный вклад вносит школа в борьбу с ним?
– Евгений Львович, выступая на открытии мероприятия, вы сказали, что школа системной красной волчанки особенно важна, поскольку это одно из самых тяжелых ревматических заболеваний. Какой конкретный вклад вносит школа в борьбу с ним?
Е.Л. Насонов: Основная цель проведения школы – расширение наших возможностей в диагностике и лечении системной красной волчанки. Обладание знаниями об этой болезни показательно характеризует ревматолога как специалиста: знаешь волчанку – знаешь все ревматические болезни. В рамках проводимой школы мы, можно сказать, учим лечить ревматические заболевания на примере волчанки, отрабатывая инновационные методы диагностики и терапии. Напомню, что и ревматология как специальность возникла на основе внедрения в практику лабораторных методов изучения системной красной волчанки, и появившийся после многолетних исследований первый генно-инженерный биологический препарат – белимумаб – предназначен именно для ее лечения. Последний факт я считаю настоящим прорывом в ревматологии, так как белимумаб был официально зарегистрирован как препарат для лечения волчанки. Важно и то, что в школе мы получаем возможность обменяться опытом с зарубежными коллегами и адаптировать их знания к нашей практике.
Й. Шредер: Как ревматолог хотел бы добавить, что если ревматическая болезнь достаточно редка, как системная красная волчанка, то для нее отсутствует и рутинная терапия. Ведь любые разработки в этой области требуют не только длительного времени, но и обширной практики. А времени как раз и нет, особенно у пациента. Вот почему очень важно, чтобы появлялось как можно больше врачей, обладающих специальными знаниями по лечению волчанки. Острая необходимость в таких специалистах связана еще и с тем, что эта болезнь поражает в основном молодых женщин, которые вовсе не готовы посвятить свою жизнь хождению по врачам. Всю серьезность диагноза многие из них понимают далеко не сразу. А ведь волчанка влияет и на возможность иметь детей. Значит, лечение должно быть не просто эффективным, но и не затрагивающим фертильность. Все эти вопросы отчасти решаются и во время проведения школ экспертов по системной красной волчанке, где ревматологи из разных регионов могут получить бесценные знания, не тратя время на то, чтобы самостоятельно дойти до важных выводов в своих изысканиях или клинической практике. Движение науки вперед во многом зависит от качественного и регулярного обмена опытом.
 – Не секрет, что при дефиците врачей-ревматологов пациенту с подозрением на волчанку нередко приходится обращаться к терапевту. Но всякий ли терапевт способен поставить предварительный диагноз с тем, чтобы затем направить больного к нужному специалисту?
– Не секрет, что при дефиците врачей-ревматологов пациенту с подозрением на волчанку нередко приходится обращаться к терапевту. Но всякий ли терапевт способен поставить предварительный диагноз с тем, чтобы затем направить больного к нужному специалисту?
Е.Л. Насонов: Да, ревматологов не хватает, как и грамотных в этом отношении врачей общей практики. Распространены две крайности – либо диагноз не ставится вовремя из-за того, что терапевт не распознал симптомы ревматического заболевания, либо, наоборот, происходит гипердиагностика из-за желания врача перестраховаться. Так, некоторым больным по общим симптомам, таким как сыпь или иммунологические нарушения, сходу назначаются высокие дозы глюкокортикоидов, тогда как они вовсе не нужны в данном случае. И впоследствии приходится бороться с полученными в качестве побочного эффекта осложнениями. Для того чтобы грамотно осуществлялся баланс между первичной помощью и специальной, врачу общей практики необходимо знать 5–7 классических проявлений ревматических заболеваний. Научить их этому – одна из основных задач школ специалистов. Наш Институт был в свое время создан не только для изучения системной красной волчанки, а потом и других ревматических болезней, но и как инструмент ревматологической службы СССР. Служба существует и по сей день, и благодаря этому мы сегодня можем проводить такие школы. Но в целом доступность специализированной помощи – многолетняя проблема, и решается она пока еще слабо.
Й. Шредер: Не хватает ревматологов и в Германии, у нас чересчур много пациентов с ревматическими заболеваниями. Поэтому каждый такой специалист востребован, ведет обширную практику и очень успешен. Однако это не решает проблему. Могли бы на помощь приходить и другие специалисты, в первую очередь врачи общей практики, однако уровень их подготовки оставляет желать лучшего. Среди выпускников наших медицинских факультетов сегодня преобладают иммунологи и гематологи, врачи несомненно важных специализаций, которые изучают в том числе и проблемы, связанные с ревматическими заболеваниями. Однако и они не могут полноценно заменить ревматологов. И перед нами стоит задача доказать, что ревматолог – значимая и важная специализация, что необходимо увеличить возможность подготовки таких врачей.
– Учитывая, что системная красная волчанка – тяжелое заболевание, насколько опасным может быть промедление в постановке верного диагноза?
Е.Л. Насонов: При системной красной волчанке иногда всего несколько недель способны кардинально изменить ситуацию. К счастью, у большинства пациентов развитие волчанки происходит медленно. Однако в целом важнейшее значение имеет воздействие на болезнь на самой ранней стадии, ведь в этом случае есть большой шанс «перепрограммировать» иммунную систему пациента. Чем позднее поставлен диагноз и начато лечение, тем меньше этот шанс. В какой-то момент изменения становятся необратимыми. К сожалению, пока наших знаний недостаточно для проведения скрининговых программ. Однако мы выделяем группы риска по различным факторам (особенно в семьях, где есть больные ревматическими заболеваниями). Сегодня существует программа Минздрава России по диспансеризации населения с целью предотвращения развития сердечно-сосудистых заболеваний, необходима такая же программа и для профилактики ревматических заболеваний. Я уверен, что со временем она появится, и тогда риск заболеть той же волчанкой существенно снизится.
Отдельная и очень важная проблема – беременность пациенток с системной красной волчанкой. Мы знаем, что беременность может вызвать обострение заболевания, и на эту тему на конгрессе EULAR-2015 в Риме прозвучал постерный доклад. Нам известны трагические случаи у таких пациенток: их предупреждали об опасности, но желание иметь детей оказывалось сильнее осторожности. У нас есть специальная, совместная с гинекологами, программа ведения беременных с волчанкой, и за время ее действия у таких матерей родилось в общей сложности более сотни здоровых детей. Это очень большое достижение, которое позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. И сегодня нам в большинстве случаев удается без осложнений довести беременность у пациентки с волчанкой до нормального родоразрешения.
– Вы упомянули белимумаб – генно-инженерный препарат, специально созданный для лечения системной красной волчанки. Насколько он доступен для пациентов?
Е.Л. Насонов: По части доступности инновационных методов лечения мы пока сильно отстаем от Европы и всего мира. Но нам постепенно удается объяснить нашим органам здравоохранения всю обоснованность правильного и своевременного лечения системной красной волчанки. Главное на сегодняшний день, что у нас работает ревматологическая служба, открываются центры с опытом успешного лечения ревматических заболеваний. И ревматологи неустанно работают над внедрением новых методов диагностики и лечения в клиническую практику. Наша задача – создать общественное мнение, показать, что мы можем помочь пациентам снизить последствия как самой болезни, так и побочных эффектов ее терапии глюкокортикоидами, которые являются краеугольным камнем в лечении очень многих ревматических заболеваний. Вопрос об отказе от них не стоит, однако необходимо оптимизировать терапию, сделать ее менее токсичной. Решить эту проблему можно частичной или полной заменой глюкокортикоидов генно-инженерными биологическими препаратами, в первую очередь белимумабом. Дозы глюкокортикоидов, сниженные до безопасного для организма уровня, могут применяться в качестве поддерживающей терапии. Но пока о доступности белимумаба для всех нуждающихся в этом препарате говорить рано.
Й. Шредер: Не знаю, как с этим обстоит дело в России, но у нас есть мнение, что доступность белимумаба для пациентов с ревматическими заболеваниями имеет крайне важное значение не только для этих больных, но и для врачей. Ревматологам необходима практическая информация о появляющихся новых лекарствах – о пользе, особенностях влияния на проявления болезни и на организм в целом. С получением такой информации могут помочь регистры пациентов, куда заносятся все необходимые данные, касающиеся терапии ревматических заболеваний. Нужно донести эту мысль до государственных органов здравоохранения.
Беседовала Т. Гойдина


